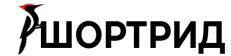С развитием субсидиарной ответственности по долгам банкрота начала развиваться также практика привлечения к ответственности контролирующих лиц по долгам компании, которую исключили из ЕГРЮЛ в административном порядке. В разное время КС и коллегии ВС занимали разные позиции – от презумпции вины контролирующего лица до обязанности самих кредиторов следить за тем, чтобы компанию не исключили из ЕГРЮЛ. […]
Вы видите только часть этого материала
Чтобы продолжить чтение, подпишитесь.